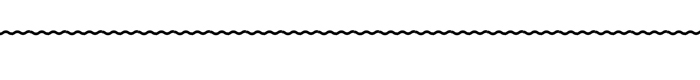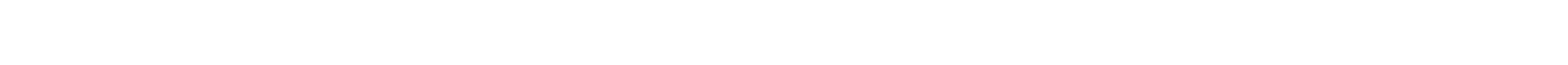
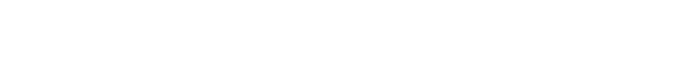
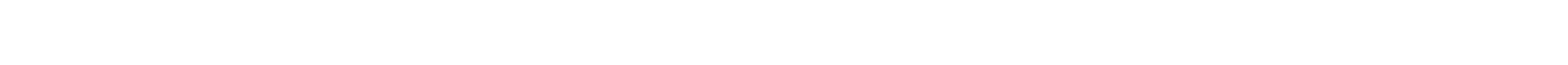
Художница из очаровательного Саратова, ныне обосновавшаяся в Москве. Работает иллюстратором, пишет и читает тексты. Создаёт по принципу "Магический реализм – единственный настоящий реализм"
инстаграм
инстаграм

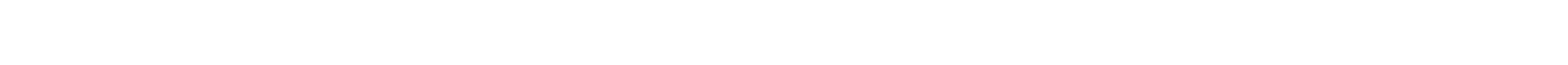
Утро выливает небо из кувшина
с птицами-чаинками на дне,
что щекочут нёбо рваным клином,
растянувшись по надземной тишине.
Доверяя сны железной груде шаткой,
носом в грудь уткнулся проводник.
Ветер чешет лес, как лоб под шапкой.
Целлофан на ветке задрожал и сник.
Зацепив сукно степное колесом,
паровоз затяжку ставит на пейзаже.
Он на каждом переезде видит сон.
Сон к нему ползёт в пыли и саже.
Тихо тронувшись и шоркая по шпалам,
близорук, горяч, слегка хмельной спросонья,
караван металла мчит со шквалом
храпа, вздохов и хлопков одной ладонью.
Облетают на ходу дремоты клочья,
застревают в ветлах дышащей глуши.
Голубое туго жмёт на пузо ночи,
заползающей в надтреснутый кувшин.
с птицами-чаинками на дне,
что щекочут нёбо рваным клином,
растянувшись по надземной тишине.
Доверяя сны железной груде шаткой,
носом в грудь уткнулся проводник.
Ветер чешет лес, как лоб под шапкой.
Целлофан на ветке задрожал и сник.
Зацепив сукно степное колесом,
паровоз затяжку ставит на пейзаже.
Он на каждом переезде видит сон.
Сон к нему ползёт в пыли и саже.
Тихо тронувшись и шоркая по шпалам,
близорук, горяч, слегка хмельной спросонья,
караван металла мчит со шквалом
храпа, вздохов и хлопков одной ладонью.
Облетают на ходу дремоты клочья,
застревают в ветлах дышащей глуши.
Голубое туго жмёт на пузо ночи,
заползающей в надтреснутый кувшин.

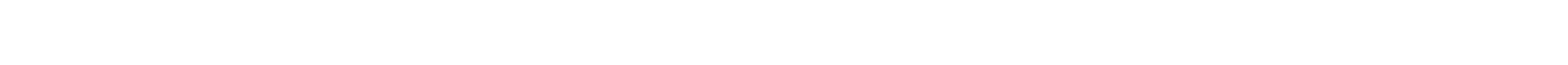
Ландшафт втекает в окно, как запах.
Запах жжёной листвы и подмёрзших луж,
на которых ноябрь с утра нацарапал
очертания дальних морей и суш.
На рассвете разлили ведёрко с солнцем,
а сонный полдень впитал, как не было.
Мифологичный, как снег – каталонцу,
кажется солнечный луч здесь гиперболой.
У завода одышка замызганным облаком,
странно подсвечен район вдалеке.
Почва, обитая мшистым войлоком,
вздулась, как вена на хвором виске.
Ржавое поле до серого выцвело,
налипли берёзки, как мокрые волосы.
Осень весь цвет из пейзажа выскребла,
оставив рубцы и белёсые полосы.
Запах жжёной листвы и подмёрзших луж,
на которых ноябрь с утра нацарапал
очертания дальних морей и суш.
На рассвете разлили ведёрко с солнцем,
а сонный полдень впитал, как не было.
Мифологичный, как снег – каталонцу,
кажется солнечный луч здесь гиперболой.
У завода одышка замызганным облаком,
странно подсвечен район вдалеке.
Почва, обитая мшистым войлоком,
вздулась, как вена на хвором виске.
Ржавое поле до серого выцвело,
налипли берёзки, как мокрые волосы.
Осень весь цвет из пейзажа выскребла,
оставив рубцы и белёсые полосы.

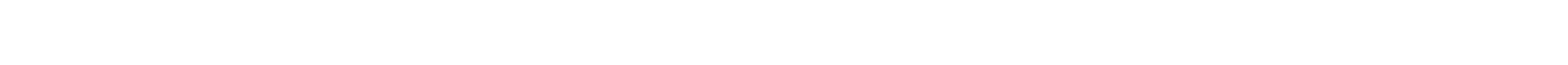
В России за сутки выявлено двадцать
две тысячи четыреста
тринадцать
новых случаев влюблённости.
Если вкратце,
это просто выросла
увлечённость святцами
и прочие надзвёздные склонности.
Честно признаться,
совершенно бесхитростно,
дабы не прослыть святотатцем,
возможно даже с долей резонности –
как белого танца
раздачи ключей от весны
пришлось дождаться
и легитимизировать вольности.
И это уже было не в моей власти
и не имело срока годности.
две тысячи четыреста
тринадцать
новых случаев влюблённости.
Если вкратце,
это просто выросла
увлечённость святцами
и прочие надзвёздные склонности.
Честно признаться,
совершенно бесхитростно,
дабы не прослыть святотатцем,
возможно даже с долей резонности –
как белого танца
раздачи ключей от весны
пришлось дождаться
и легитимизировать вольности.
И это уже было не в моей власти
и не имело срока годности.

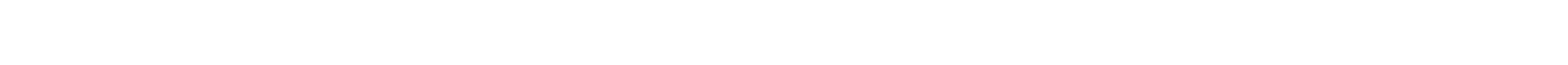
Постановление
о добровольно-
принудительном забвении
ушедшего, что довольно
часто встаёт перед зрением,
чаще – осенью, летом – менее,
отдаётся в висках колковатым трением,
застилает тельце обманным млением,
им маскируя сердечное тление.
Запрещено
узнавать бывших возлюбленных на улице
в них самих или похожих прохожих людях –
следует идти спокойно дальше, не сутулиться,
думать о компоте, первом и втором блюде.
Не положено
перематывать раз за разом
плёнку памяти с записью старых вечеринок,
когда всерьёз никто ещё не увлекался джазом
и в день рождения в глазу не было соринок.
Не дозволительно
думать как о чём-то хорошем
о каше с комочками, запахе школьной
столовой, о том, что колючим был свитер в горошек,
о том, как стеснялся стоять пред иконой.
Категорически грешно
говорить с улыбкой о родном городе,
о старой квартире, старых картинах,
о том, как учился, хотя был голоден,
как доставалось из-за волос длинных,
как подобрал котёнка на холоде,
как слушал песни бездомного о дельфинах,
какими вкусными казались жёлуди
и смешными манекены в витринах.
Следует сохранять невозмутимость и осознавать необходимость.
Нарушители – все, кто гнёт свою линию.
Директор,
личная подпись,
фамилия.
о добровольно-
принудительном забвении
ушедшего, что довольно
часто встаёт перед зрением,
чаще – осенью, летом – менее,
отдаётся в висках колковатым трением,
застилает тельце обманным млением,
им маскируя сердечное тление.
Запрещено
узнавать бывших возлюбленных на улице
в них самих или похожих прохожих людях –
следует идти спокойно дальше, не сутулиться,
думать о компоте, первом и втором блюде.
Не положено
перематывать раз за разом
плёнку памяти с записью старых вечеринок,
когда всерьёз никто ещё не увлекался джазом
и в день рождения в глазу не было соринок.
Не дозволительно
думать как о чём-то хорошем
о каше с комочками, запахе школьной
столовой, о том, что колючим был свитер в горошек,
о том, как стеснялся стоять пред иконой.
Категорически грешно
говорить с улыбкой о родном городе,
о старой квартире, старых картинах,
о том, как учился, хотя был голоден,
как доставалось из-за волос длинных,
как подобрал котёнка на холоде,
как слушал песни бездомного о дельфинах,
какими вкусными казались жёлуди
и смешными манекены в витринах.
Следует сохранять невозмутимость и осознавать необходимость.
Нарушители – все, кто гнёт свою линию.
Директор,
личная подпись,
фамилия.

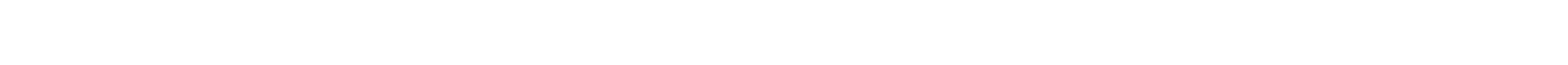
Как жёлтый абажур мошкою отанцован,
в объятьях хоровода облаков
верхушки сосен нежатся.
И слова
нет, чтобы рассказать их золотистый шов,
воспламеняющий заштопанное небо.
В высокой ржи, что только учится быть хлебом
посредством благосклонности к вину,
примято место, и венок, и гребень.
Слепо
стрекозы лепятся другая на одну,
хитином крыльев преломляя свет.
И им нет дела, был ли кто одет
из тех, кто откупорил здесь вино
и клялся возвращаться.
На обед
их не дождались дома, и окно
до утра нервно дребезжало жёлтым.
Так детство тает в юность грубым шёлком.
в объятьях хоровода облаков
верхушки сосен нежатся.
И слова
нет, чтобы рассказать их золотистый шов,
воспламеняющий заштопанное небо.
В высокой ржи, что только учится быть хлебом
посредством благосклонности к вину,
примято место, и венок, и гребень.
Слепо
стрекозы лепятся другая на одну,
хитином крыльев преломляя свет.
И им нет дела, был ли кто одет
из тех, кто откупорил здесь вино
и клялся возвращаться.
На обед
их не дождались дома, и окно
до утра нервно дребезжало жёлтым.
Так детство тает в юность грубым шёлком.

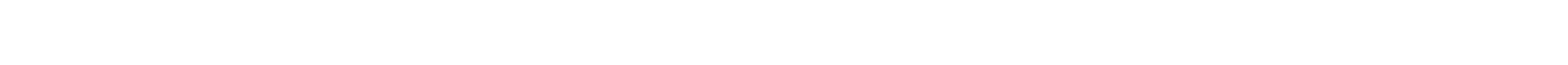
В моей голове джаз,
но я представляю,
что он играет в такси.
И это солнце —
Боже, как хорошо ты его придумал! —
иже еси.
Впервые пахнет
не "ёлочкой", а мужскими духами.
Даже приличными.
Тени великанов-столбов
фиолетовые,
графичные.
Сталинские высотки
похожи на странный именинный торт
безымянного чиновника.
Проспект Мира искупан
в мирре холодного жёлтого света,
безразличного, как духовники.
Искупи нам!
Силуэты прохожих оплывают
и становятся похожи
на театр теней
тропических цветов.
Любование солнцем —
самая честная молитва
еретиков.
но я представляю,
что он играет в такси.
И это солнце —
Боже, как хорошо ты его придумал! —
иже еси.
Впервые пахнет
не "ёлочкой", а мужскими духами.
Даже приличными.
Тени великанов-столбов
фиолетовые,
графичные.
Сталинские высотки
похожи на странный именинный торт
безымянного чиновника.
Проспект Мира искупан
в мирре холодного жёлтого света,
безразличного, как духовники.
Искупи нам!
Силуэты прохожих оплывают
и становятся похожи
на театр теней
тропических цветов.
Любование солнцем —
самая честная молитва
еретиков.

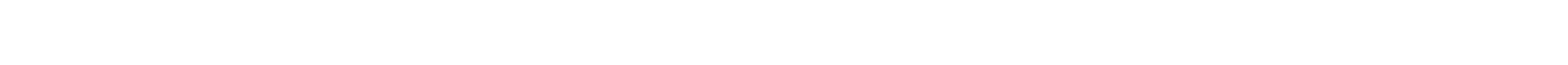
Бабушка,
раньше у калитки
росла черноплодка.
Являла себя из чернозёма
во всей своей матовости
и вязкости.
Лето, жирафея,
растягивалось,
и наконец потеряло малиновый вкус.
Бабушка,
бабушка,
я напишу твой пейзаж.
Присядь
пожалуйста
в это летнее кресло
под виноградной лозой.
Она почти съела
наш дом.
Я боюсь о тебе писать.
Черноплодки больше нет,
и гороха,
и фасоли,
и сливы,
и флоксов.
Где будут жить
стаи майских жуков,
если ты не посадишь флоксы?
Бабушка,
присядь,
пожалуйста.
(Чуть левее – помнишь,
там росли флоксы?)
раньше у калитки
росла черноплодка.
Являла себя из чернозёма
во всей своей матовости
и вязкости.
Лето, жирафея,
растягивалось,
и наконец потеряло малиновый вкус.
Бабушка,
бабушка,
я напишу твой пейзаж.
Присядь
пожалуйста
в это летнее кресло
под виноградной лозой.
Она почти съела
наш дом.
Я боюсь о тебе писать.
Черноплодки больше нет,
и гороха,
и фасоли,
и сливы,
и флоксов.
Где будут жить
стаи майских жуков,
если ты не посадишь флоксы?
Бабушка,
присядь,
пожалуйста.
(Чуть левее – помнишь,
там росли флоксы?)

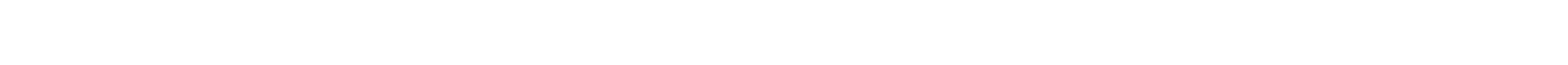
Ащеулов
переулок
сочится щелями.
Луков
дразнит его
через ограду жёлтых фонарей
и показывает языки навесов.
Переулки кидаются бликами,
как дети хлебными комочками.
Из моего стекла в твое,
битва двух зеркальных мельниц.
Под табличкой ГЛУХИЕ
парень достал мыльницу,
устаревшую,
как наблюдение
за диалогом
каменных стен.
Рустовки рефрен
тянется, тянется, тянется
сколько раз получится обернуть Землю,
если сложить все эти ритмы
в одну ленту?
Развратная статуя в арке
не знает ответа.
Девушки бегут,
машут руками,
и все говорят,
как в фильмах Муратовой.
Автобус уползает по колее маршрута,
и ситуация между Луковым и Ащеуловым
признана патовой.
переулок
сочится щелями.
Луков
дразнит его
через ограду жёлтых фонарей
и показывает языки навесов.
Переулки кидаются бликами,
как дети хлебными комочками.
Из моего стекла в твое,
битва двух зеркальных мельниц.
Под табличкой ГЛУХИЕ
парень достал мыльницу,
устаревшую,
как наблюдение
за диалогом
каменных стен.
Рустовки рефрен
тянется, тянется, тянется
сколько раз получится обернуть Землю,
если сложить все эти ритмы
в одну ленту?
Развратная статуя в арке
не знает ответа.
Девушки бегут,
машут руками,
и все говорят,
как в фильмах Муратовой.
Автобус уползает по колее маршрута,
и ситуация между Луковым и Ащеуловым
признана патовой.

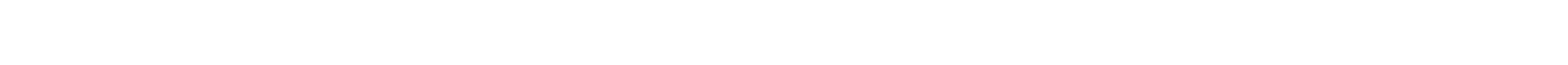
Стадо пустот табуном пронеслось по квартире.
Даже шёпоту лень прорезаться во рту. Невмоготу.
Тоски материк дрейфующий как океан стал обширен,
звуки-телохранители замерли на посту.
В раковины ушей солёной тяжёлой волной
ровно пространства огромного рушится гул –
могучий, сухой – белый шум, с которым земной
эллипсоид ползёт по орбите, как жалобный мул.
Заоконье макнули в банку
с краской цвета россии зимой.
Кто-то вывернул жизнь наизнанку
и назвал этот лёд тишиной.
Даже шёпоту лень прорезаться во рту. Невмоготу.
Тоски материк дрейфующий как океан стал обширен,
звуки-телохранители замерли на посту.
В раковины ушей солёной тяжёлой волной
ровно пространства огромного рушится гул –
могучий, сухой – белый шум, с которым земной
эллипсоид ползёт по орбите, как жалобный мул.
Заоконье макнули в банку
с краской цвета россии зимой.
Кто-то вывернул жизнь наизнанку
и назвал этот лёд тишиной.
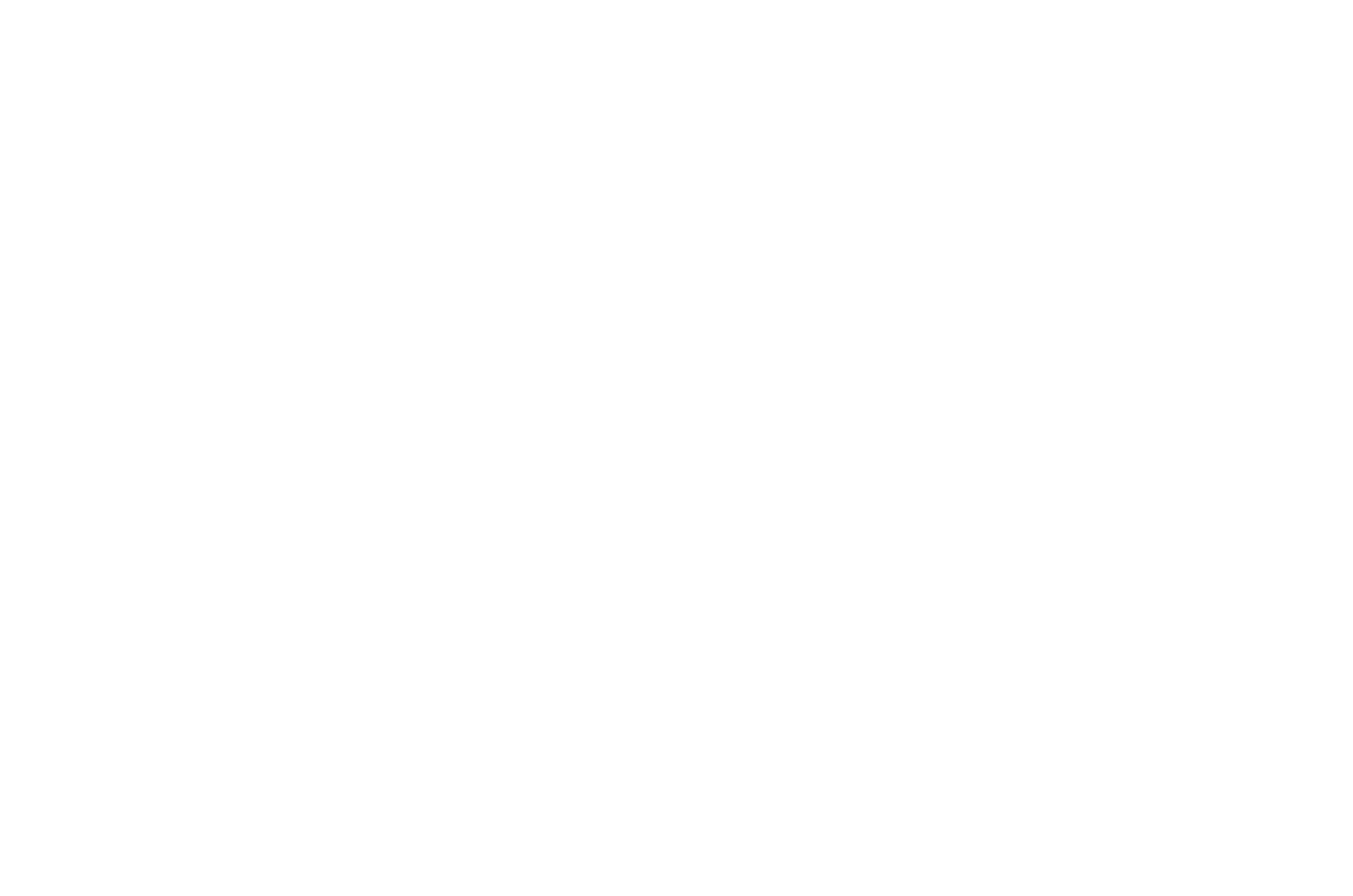
поделиться

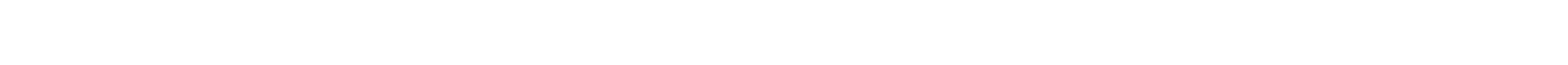
© 2021 UTOPIA MAG